Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
  |
| DoctorADS |
 16.9.2009, 8:48 16.9.2009, 8:48
Сообщение
#1
|
|
Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 856 Регистрация: 18.1.2007 Пользователь №: 220 |
Подскажите, когда было построено старое здание тюрьмы.
Есть ли какие подробности стройки? Откуда появилась легенда про "вензель" Екатерины...? |
| 1723 |
 16.9.2009, 20:38 16.9.2009, 20:38
Сообщение
#2
|
 Администратор     Группа: Главные администраторы Сообщений: 30 847 Регистрация: 25.10.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 1 |
ИСТОРИЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ТЮРЬМЫ.
Очерк истории Екатеринбургского тюремного замка. Очерк истории Екатеринбургского тюремного замка начала ХХ века Алексей Болковский, подполковник внутренней службы в отставке 11.11.2008 г. «Екатеринбургский централ», основанный в июле 1828 года, недавно отметил 180-летие. Первоначально это пенитенциарное учреждение создавали как пересыльную тюрьму – потребности в подобных учреждениях в России конца 20-х годов XIX века заметно выросли. Реагируя на предпринятую «декабристскими» тайными обществами попытку государственного переворота, император Николай I взял курс на укрепление тогдашней «властной вертикали», наведение порядка в управлении страной. Спустя несколько лет веским аргументом в пользу продолжения мероприятий державно-охранительной направленности стало осложнение обстановки на юге России, где, под зеленым знаменем «газавата против неверных», распространялось сепаратистское учение «мюридизма». Страна вступала в затяжную войну на Кавказе… Для Екатеринбурга, изначально служившего важнейшим «мостом» между европейской и азиатской частями Российской империи, это означало возложение функций «перевалочной базы» для направляемых в Сибирь ссыльных преступников. В 1826 – 1827 г.г. через Екатеринбург были этапированы на восток многие «декабристы». За неимением пересыльной тюрьмы, их размещали на почтовых станциях Московского и Сибирского трактов… В конце XIX столетия обстановка в Екатеринбургском тюремном замке была более спокойной. Лучше финансировались охранно-режимные мероприятия, больше средств выделялось на содержание арестантов и осужденных, существенно повысилось и денежное довольствие сотрудников тюрьмы. Екатеринбургскую тюрьму не обошли стороной и политические катаклизмы начала ХХ века. О том, что на Урале и по всей стране назревает, в отличие от стихийных восстаний минувших веков, тщательно планируемая и организуемая революционная буря, свидетельствовали события, происходившие в тюремном замке Екатеринбурга в 1903 – 1908 годах. В это время здесь резко увеличилось число политических заключенных, которые с каждым днем доставляли тюремной администрации и полицейским органам все больше хлопот. Как явствует из документов, обнаруженных в госархивах екатеринбургским краеведом Дмитрием Кулаковым, арестованные террористы – революционеры, как правило, пользовались изрядной материальной поддержкой извне. Оказывая ее, организаторы антиправительственных акций, вероятно, преследовали цель продемонстрировать вступавшей в революционные ряды молодежи, что угодивших за решетку «борцов за народное счастье» не оставят без покровительства со стороны влиятельных товарищей. Вот, скажем, весьма красноречивые признания из публиковавшейся в советский период под названием «Екатеринбургская тюрьма» книги мемуаров члена РСДРП(б) Н. Чердынцева, «томившегося» в стенах Екатеринбургского замка в 1908 – 1909 годах: «Здоровье ухудшается… Две говяжьи котлеты я съедаю в день лишь через силу. Скоро не в состоянии буду их съедать. Яйца видеть уже не могу, раньше 3-4 яйца всмятку съедал ежедневно обязательно…» В мае 1903 года ротмистр екатеринбургской жандармерии Подгоричани получил от «своего человека» среди осужденных – революционеров, некоего Фомы Каргаполова, информацию о том, что, по недосмотру администрации, в тюрьму попадает нелегальная литература, которой потом свободно обмениваются узники. Каргаполов сообщал, что арестанты замышляют побег и постоянно получают записки, деньги и другие ценности с «воли». По сообщению агента, запрещенные предметы, чаще всего, запекали в котлетах, пирогах и других продуктах, а также маскировали в коробках из-под табака. Подгоричани доложил об этом рапортом на имя прокурора Екатеринбургского окружного суда и Пермского губернского тюремного инспектора. 31 мая 1903 года в Екатеринбург прибыл помощник губернского тюремного инспектора, барон фон Траубенберг. Задействовав всю тюремную администрацию, а также уездную жандармерию и полицию, ревизор из Перми организовал в тюрьме два обыска, но они оказались безрезультатными – у заключенных нашли лишь несколько гвоздей да 7 рублей денег. После этого губернская тюремная инспекция стала ходатайствовать о строительстве на территории Екатеринбургской тюрьмы корпуса с одиночными камерами, где предлагалось в кратчайшие сроки изолировать всех «политических». Но проект сооружения в центре Урала аналога петербургской Петропавловской крепости так и не был реализован на практике… 12 июня 1903 года в тюрьме вспыхнул бунт, получивший название «демонстрации больных». Его инициаторами стали политзаключенные, решившие показать, что они – сила, с которой впредь необходимо считаться. В качестве предлога использовали то, что тюремный врач Упоров перевел девятерых выздоровевших узников с так называемого «больничного» рациона на «обыкновенный». Масла в огонь подлил визит в тюрьму заместителя екатеринбургского прокурора, некоего Гаврилова, который в присутствии арестантов предложил администрации «централа» постоянно следить за качеством питания больных. Высказанное в самой общей форме это дежурное пожелание заключенными было немедленно истолковано так, будто отныне «больничный паек», согласно предписанию прокуратуры, положен всем – и больным, и здоровым. До этого никому из политических или уголовных арестантов «Екатеринбургского централа» и в голову не приходило идти на конфликты, если администрация действовала по законодательно определенным правилам. Да и на «недостаточную» пайку грех было жаловаться, ведь в начале ХХ века «постояльцев» Екатеринбургского тюремного замка кормили гораздо лучше, чем когда-либо в прошлом и в ближайшем будущем, которое было уже не за горами... Сначала девять заключенных-«революционеров», вооружившись табуретом и скамьей, выбили дверной затвор. В коридор полетели посуда и ошметки только что выданных обеденных порций супа и каши. А когда на место происшествия прибыл начальник тюрьмы Киселев, протестовавшие заявили, что, если им не вернут больничное довольствие, «они на завтра устроят большую демонстрацию…» Тюремное руководство глубоко задумалось и… неожиданно даже для самих бунтовщиков удовлетворило их дерзкий ультиматум! Правда, позднее некоторых «смутьянов» перевели в другие тюрьмы, а остальные «снизошли» до поначалу категорически отвергавшегося ими компромиссного варианта, при котором недовольных стали кормить почти как в ресторане, но уже на их собственные деньги, а не за казенный счет. Тем не менее, стабилизировать ситуацию и вернуть ее в прежнее русло в итоге не удалось. По этому поводу невольно вспоминается небезызвестный афоризм: «Это нечто худшее, чем преступление, это – ошибка!» Обоснованное недовольство промахами прокуратуры и администрации, в частности, выразил Пермский губернатор, справедливо отметивший в своем письме, что проявленное попустительство лишь «возбудило задор» бунтовщиков. Действительно, слабость властей в данном случае привела в действие цепную реакцию того, что на лагерном жаргоне второй половины 20-го столетия обычно именовали емким словом «беспредел». Выйдя за рамки общепризнанных тюремных норм поведения, обнаружив самопроизвольную «отмену» соблюдаемых в любой пенитенциарной системе «правил игры», арестанты не пожелали остановиться на достигнутом и продолжали наступление на «свору псов и палачей»… Вскоре зримым проявлением этого стал разрисованный надписями и рисунками революционного содержания прогулочный двор тюрьмы, что было замечено проверяющим, все тем же «товарищем екатеринбургского прокурора Гавриловым». В связи со скандальным происшествием был немедленно уволен со службы дежуривший в день «художественного оформления» прогулочного двора надзиратель Ушаков. Досталось и начальнику тюрьмы Киселеву, который получил строгий выговор и вскоре также был отстранен от должности… В 1905 году бессменный жандармский «куратор» Екатеринбургского тюремного замка ротмистр Подгоричани, через своих агентов неоднократно перехватывал записки заключенных, в которых обсуждались детали намечаемых в тюрьме «беспорядков» и выражалось сожаление, что до сих пор не удается «воспользоваться хорошей почвой…» Благодаря тому, что администрация тюрьмы и спецслужбы были информированы о планах заговорщиков, накал страстей удавалось сдерживать. Но в октябре 1905 года, когда Екатеринбург почти каждый день сотрясали революционные демонстрации, забастовки и погромы, на какое-то время вышла из-под контроля и ситуация в тюремном замке. 19 октября, когда на центральной Кафедральной площади Екатеринбурга происходили столкновения митингующих толп и полиции, из тюрьмы выпустили всех «политических». Администрация пошла на этот шаг вынужденно, опасаясь, что несколько тысяч манифестантов прорвут полицейские заслоны и двинутся на штурм тюрьмы, чтобы силой освободить содержавшихся в ней заключенных – «политических», а заодно и уголовников. Опасения эти являлись обоснованными, поскольку лозунг «Долой уральскую «Бастилию!» был в те дни весьма популярен среди революционно настроенных жителей Екатеринбурга… В 1906 году в стенах екатеринбургской тюрьмы наступило относительное затишье. Но, поскольку пожар первой российской революции, как известно, был погашен с немалым трудом, затишье это являлось зыбким. Несмотря на то, что манифест императора Николая II от 17 октября 1905 года легализовал деятельность существовавших в стране партийных организаций, некоторые из оказавшихся тогда на свободе политзаключенных «Екатеринбургского централа» вскоре были водворены на прежнее место. При этом в отличие от правоохранительной практики предреволюционного периода, теперь «сажали» уже не за «крамольные речи», а лишь за участие в террористических актах, «экспроприациях» и прочих «революционных» грабежах, за изготовление и хранение боеприпасов и т.п. Если преступление было менее значительным, то власти колебались при определении «мер пресечения», поскольку арестованные сразу же начинали апеллировать к общественному мнению и в различные официальные инстанции. Так, в начале 1906 года в одном из домов на Солдатской улице Екатеринбурга в результате полицейской облавы была обнаружена нелегальная типография социал-демократов и задержаны 6 причастных к ее работе лиц. Один из задержанных, некий Кокосов, после месяца пребывания в тюрьме, объявил голодовку, требуя, чтобы его немедленно освободили под залог. Голодовка была поддержана всеми «политическими», ее подробности начали муссироваться в легальной либеральной и социалистической прессе... Стремясь свести к минимуму общественный резонанс, екатеринбургский прокурор пошел на уступки и 20 февраля 1906 года распорядился выпустить Кокосова под залог в 500 рублей. 12 марта 1906 года «пропагандиста» Кокосова вновь взяли под стражу, так как он уклонялся от следствия и проживал под чужим паспортом. Однако и это задержание продлилось недолго. Спустя полтора месяца, под давлением бурно протестовавшей общественности, Кокосов был опять отпущен на поруки, только на сей раз сумма залога была удвоена… Подобные, как принято называть их сегодня, публичные «пиар – акции» с расчетом на широкую огласку случались в Екатеринбургском тюремном замке и позже. Например, с 10 по 15 марта 1908 года большая группа «политических» объявила голодовку, выдвинув лишь одно требование – «пусть сейчас же придет прокурор». Причину вызова представителя «ока государева» заключенные назвать не пожелали, а последний, в свою очередь, отказался удовлетворить их ультиматум: «Каприз арестантов и немотивированное требование прибытия моего впредь останутся безрезультатными». Революционеры воспользовались этим отказом и пожаловались на прокуратуру в судебную палату, обвиняя представителей надзорных органов в том, что они редко посещают тюрьму и медленно рассматривают обращения заключенных. В итоге прокурору пришлось «отписываться» по этому поводу, оправдываясь, что жалобы, голодовки, попытки неповиновения и прочие негативные явления неизбежны, «пока в Екатеринбургской тюрьме, рассчитанной на 444 человека, будут находиться 800…» В целом, режим содержания в «Екатеринбургском централе» после революции 1905 года стал еще гуманнее, чем до нее. Типичен, например, такой эпизод. 16 марта 1906 года «политические» потребовали к себе помощника начальника тюрьмы и заявили, что на традиционную прогулку ходить не будут, пока не выполнят два условия. Политарестанты потребовали впредь проводить прогулки не в прогулочном, а в общем дворе, а также убрать из тюрьмы размещенное здесь с конца 1905 года подкрепление охраны, представленное взводом казаков. Требование замены территории для «променада» мотивировалось тем, что гулять в тесном прогулочном дворе было якобы унизительно. Ну, а символизировавшие незыблемость существующих порядков казаки и вовсе действовали на революционеров, словно красная тряпка на быка, раздражая их даже самим своим внешним видом... Успокаивая распоясавшихся заключенных, помощник начальника Екатеринбургского замка Кожевников в самых деликатных выражениях попытался объяснить им, что дозоры казаков по периметру тюрьмы поставлены лишь для того, чтобы арестанты не разбежались, а разрешить прогулки в общем дворе невозможно, так как это было бы нарушением всех мыслимых и немыслимых инструкций. Но увещевания потонули в потоке нецензурной брани. В найденных екатеринбургским краеведом Дмитрием Кулаковым материалах Свердловского облархива упоминается, в частности, что заключенные Борисов и Пискунов кричали выражались нецензурной бранью, а некий Никифоров угрожал, что «поленом его надо!» Характерно, что этот демарш был оставлен без последствий. Руководство тюрьмы не рискнуло наказать оскорбивших офицера зачинщиков дерзкой акции неповиновения... В 1907 году Екатеринбургский тюремный замок стал последней «крышей» для приговоренных к смерти нескольких десятков участников террористических актов и восстаний. Один из них, социалист Иван Бабошин, перед казнью предрек работникам тюрьмы, которых он назвал «торжествующими палачами», что, когда свершится революция, они станут последними заключенными и последними взойдут на эшафот. Немало информации о бесчинствовавших на Урале в 1903 – 1908 г.г. группах революционных боевиков можно подчерпнуть из уже упоминавшихся мемуаров большевика Н. Чердынцева «Екатеринбургская тюрьма»: «…Свое начало «Уральский боевой союз» получил от группы выходцев из столицы, петербургских террористов, которые в числе 16 человек приехали в Пермь и вошли весной 1907 года в организацию Лбова. Связь свою со Лбовым получили через одного одессита, известного под кличкой «Дворянин», который был знаком лично со Лбовым еще на военной службе. «Дворянин» организовал для Лбова доставку оружия и боевых припасов». К этим 16 человекам примкнули местные уральские террористы: Савельев, под кличкой «Сибиряк»; Александр Горшков, кличка «Уралец»; Михаил Горшков, кличка «Максим». Последний принимал участие в местном движении еще до 1905 года, состоя членом бывшего тогда Уральского союза с.-д. и с.-р. Поименованные выше лица, хотя и состояли в организации Лбова, но носили название «питерцев». 16 июля 1907 года они своими силами устроили экспроприацию на пароходе «Анна Степановна». После этой экспроприации произошел раскол между Лбовым и «питерцами». Последние выделились в самостоятельную группу под названием «Пермского партизанского отряда», который связался через Зою Шмеринг с петербургскими террористическим организациями, а через «Максима» – с группою уральских террористов. «Сибиряк» же с Николаем Пискулиным образовали группу «Уральских лесных братьев»… Уфимская группа состояла, главным образом, из боевиков партии эсеров, оппозиционеров централизации. Во главе ее стоял Савелий, он же Никифор, застрелившийся при преследовании его…» В историко-публицистической литературе советского периода российских террористов начала ХХ века принято было подавать исключительно как невинных жертв реакции, беззаветно отдававших себя на алтарь светлого будущего. Однако в действительности же, судя по многочисленным архивным свидетельствам, под удар радикально настроенных революционеров попадали, в первую очередь, отнюдь не собственные, а чужие жизни – чиновников губернских администраций, офицеров правоохранительных органов, консервативно настроенных общественных деятелей и т.п. В свою очередь, государство, представителей которого повсеместно взрывали и расстреливали, делало попытки как-то защищаться. Хотя смертная казнь через повешение практиковалась и ранее, показательно, что именно в 1906 – 1907 г.г. вошло в обиход выражение «столыпинский галстук». Так в среде либеральной и революционно настроенной интеллигенции характеризовали один из «инструментов» деятельности созданных в августе 1906 года в некоторых, наиболее неспокойных регионах России военно-полевых судов. Впрочем, «галстук» этот считался вынужденной и временной мерой, которую предписывалось задействовать лишь в чрезвычайных случаях. Следует еще добавить, что применение «военно-полевой» смертной казни в условиях, напоминавших скорее скрытую диверсионную войну, нежели широкомасштабные боевые действия, было эффективным далеко не всегда, поскольку репрессивные меры редко затрагивали «недосягаемых» закулисных организаторов революционного подполья, а били, в основном, по исполнителям, вроде боевика Бабошина… Утром 19 ноября 1906 года в спальне, находившейся на территории «Екатеринбургского централа» служебной квартиры начальника тюрьмы, потомственного дворянина и коллежского секретаря Кадомцева взорвалась бомба. В своем рапорте на имя прокурора Екатеринбургского окружного суда хозяин подвергнувшейся террористической атаке квартиры описывал этот случай так: «Сего числа в 11 часов 10 минут в квартире моей, прилегающей спиной к прогулочному двору, в истопившейся почти голландской печи произошел взрыв, по моему предположению, от брошенного в дымовую трубу пороха, завернутого в свинцовую оболочку… О вышеизложенном доношу Вашему Высокородию. Начальник тюрьмы Кадомцев». В ходе расследования этого происшествия был подтвержден умысел неустановленных бомбометателей, которые целенаправленно привели в действие «адскую машинку» в удобный для них момент, зная, что объект их нападения находится в квартире. Во время взрыва в спальне, кроме руководителя тюрьмы и его жены, была еще и наводившая там порядок уборщица из числа заключенных, которая работала здесь коровницей на скотном дворе и по совместительству выполняла обязанности прислуги в квартире начальника замка. Как было признано следствием, потерпевших спасла техническая ошибка в конструкции самодельной бомбы, из-за которой взрыв оказался недостаточно сильным. Кроме того, террористы, по-видимому, не обратили внимания на то, что в тот день печь начали топить позднее, чем обычно, и потому, когда в печную трубу спускали бомбу, заслонки дымохода еще не были задвинуты. Таким образом, фугас упал прямо на раскаленные угли в топку и моментально сработал, но, как отмечалось в материалах уголовного дела, «сила взрыва нашла себе выход в отверстиях двух отдушин». Последствия теракта оказались не столь значительными, как ожидалось злоумышленниками, – лишь сильное задымление и вспыхнувшие деревянные балки потолочного перекрытия возле печи. Дознание по этому делу было поручено помощнику полицейского пристава Тимофееву, который установил, что взрывчатка не могла быть подкинута в печь из квартиры – поскольку там имелся пост, где, в отсутствие хозяев, всегда выставляли дежурного надзирателя, маловероятно, что туда могли незаметно проникнуть посторонние. Спустить бомбу было возможно только из прогулочного двора, к которому примыкала одна из стен спальни. Выяснилось и другое важное обстоятельство – ближе других к прогулочному двору была именно та часть крыши квартирного флигеля, где имелась печная труба. На крыше, рядом с трубой, был найден обрывок крученой веревки длиной в полтора вершка. Осмотрев «чрево» поврежденной печи, пожарные нашли в ней шнур и тесьму, которыми, по-видимому, и была привязана спущенная в дымоход бомба. В результате более тщательного осмотра печи, произведенного полицейскими при участии печных дел мастера Кузьмы Смирнова, в ней обнаружили коробку из-под пороха, а также несколько кусков от четырехугольной металлической пластины, по предположению сыщика, являвшейся крышкой от пороховой коробки... Казалось бы, найденных улик было вполне достаточно для того, чтобы немедленно начинать выяснять, кто из арестантов и сотрудников тюрьмы мог находиться в прогулочном дворе в 11 часов утра в день теракта, и допросить всех подозреваемых. Но помощник пристава почему-то удовлетворился формальным заявлением потерпевшего Кадомцева о том, что тот «подозрений высказывать ни на кого не может…» Вскоре уголовное дело «о покушении на убийство посредством взрыва начальника Екатеринбургской тюрьмы» оказалось на столе у прокурора Екатеринбургского окружного суда, и его решено было прекратить… «за не обнаружением виновных». Вялость следственных органов может быть объяснена только одним – сыщики и прокуроры сами боялись стать жертвами вооруженных «борцов за народное счастье». Но прежде чем бросать в служащих правоохранительной системы камень упреков в малодушии, необходимо вспомнить, каким был дух исторического отрезка времени, в котором им приходилось служить. В 1904 – 1907г.г. едва ли не каждый день в газетах мелькали сообщения о все новых и новых кровавых «экспроприациях», то бишь насильственном присвоении банковских, торговых и почтовых ценностей, о массовых грабежах и разбоях в помещичьих усадьбах и, конечно же, об изощренных террористических актах, от которых не всегда удавалось уберечь даже министров и членов наиболее высокопоставленной семьи России, великих князей из Дома Романовых. К слову, тогда же, в 1906 году, боевики – социалисты умудрились взорвать дачу председателя Правительства и министра внутренних дел России П. А. Столыпина, то есть, не гарантировалась безопасность даже второго лица Империи! Что уж там говорить о каких-то, не имевших и минимальной охраны, уездных чиновниках, ведь ситуация на Урале существенно не отличалась от того, что творилось в столицах. «Приставов, полицмейстеров и другой швали побито нами много…» Столь красноречивое признание содержалось в зашифрованной записке, которая, незадолго до описываемых событий, была направлена содержавшемуся под арестом в Екатеринбургском замке эсеру Кругляшову от его товарищей, активно действовавших на свободе. Естественно, что работников тюрьмы и полицейских сыщиков, время от времени перехватывавших такие послания, в той или иной степени беспокоила и собственная участь… Впрочем, при этом нельзя и сказать, что сотрудники Екатеринбургского замка и полиции были совсем уже парализованы страхом и сидели сложа руки. Проводилась ими, например, профилактическая работа среди агентуры. Контакты с осведомителями, во избежание огласки, требовали особой осторожности, поскольку вербовка агентов среди преступников и подозреваемых тогда, как и сегодня, оценивалась зараженным либеральными идеями общественным мнением как нечто мерзкое и постыдное. Но если отбросить в сторону эмоции, это было всего лишь одним из необходимых направлений обычной оперативно – розыскной деятельности, практиковавшейся и практикуемой правоохранительными органами во все времена и во всех государствах. О том, что в начале ХХ века определенную работу с «подсобным аппаратом» пытались осуществлять и в Екатеринбургской тюрьме, свидетельствуют цитировавшиеся выше мемуары видного социал-демократа Н. А. Чердынцева, «отсидевшего» здесь около двух лет, который, в частности, с возмущением писал: «…Заключенный в «одиночке» №5, ни больше, ни меньше, как провокатор, которого полиция прячет от мести выданных им товарищей. В «одиночку» №3, оказывается, запрятан известный прохвост Помазкин. В свое время он выдал несколько попыток арестантов к побегу, подкопы, бомбу. Вообще, это невообразимо грязный негодяй. Выпустить на волю, однако, не смеют, так как за ним числится крупное дело…» «Бомба» в дневнике революционера упомянута не случайно. Боеприпасы, действительно, пускались в ход не только для расправы с госслужащими, но и при подготовке побегов. Например, в июне 1905 года тюремному и полицейскому начальству стало известно, что из Екатеринбургского замка готовятся сбежать несколько революционеров, и для этого уже подготовлен динамит. 12 июня охраной тюрьмы была перехвачена записка, автор которой сообщал, что взрывать ограду замка намечено со стороны примыкавшего к тюрьме городского кладбища. Из записки не было ясно, откуда конкретно готовится подрыв тюремной стены – изнутри замка или снаружи. На территории тюрьмы сразу же приступили к повальным обыскам с участием жандармерии и полицейских наружной службы. В слесарной мастерской нашли припрятанный железный штырь со следами извести, а на ограде замка, в том месте, где она граничила с кладбищем, обнаружили следы сверления. Это означало, что подрыв готовили, как минимум, изнутри или одновременно с обеих сторон ограды… На третьи сутки дежурные надзиратели тщательно проверяли прачечную. Так как эта постройка стояла рядом с обращенной к Ивановскому погосту стеной, у администрации и сыщиков имелись серьезные основания полагать, что взрывчатку прячут где-то там. Одна из массивных половиц в углу выглядела чуть отошедшей, и надзиратели решили поднапрячься и приподнять ее чугунными «выдергами». Подозрения подтвердились – под пудовой половой «плахой» лежали два больших свертка. В этом тайнике были упакованы и спрятаны 15 динамитных патронов и другая взрывчатка, а также 4 аршина бикфордова шнура и заряженный револьвер «Смит и Вессон». На следующий день в Санкт – Петербург было отправлено немедленное телеграфное донесение на имя министра юстиции за подписью екатеринбургского прокурора Казинцева: «15 июня с.г. в Екатеринбургской тюрьме обнаружены 15 патронов динамита, бикфордов шнур, бертолетова соль, пироксилиновые шашки, заряженный револьвер, приготовления к побегу. Меры к обнаружению виновных приняты». Прибывшего в тюрьму следователя по особо важным делам заинтересовала информация о том, что 15 июня на Ивановском кладбище видели молодого человека, который бродил вдоль ограды «централа» и будто бы что-то высматривал. Спустя неделю, по приметам задержали екатеринбургского мещанина Григория Порошина, который был изобличен в связях с группой намеревавшихся сбежать осужденных революционеров. Именно Порошин сумел передать в тюрьму боеприпасы. При обыске у него на квартире на глаза жандармам попалась спрятанная под спудом старых газет рукописная тетрадь. Как многие интеллигенты того времени, мещанин Порошин вел дневник, на страницах которого описывал свои переживания и метания при подготовке «побега группы товарищей». Кроме того, у него дома нашли револьвер, коробку из-под динамита и сумбурную записку: «… Товарищи, почему нет от Вас ответа? Я все приготовил ко вторнику, не понимаю, какая у Вас задержка. Повторяю план дела. В назначенный день должен быть вывешен на одном из окон красный флаг – значит, идете. Тогда мы приходим на кладбище и делаем знаки большими флагами. Стена будет взорвана во что бы то ни стало. Если идете, то сейчас же, как получите письмо, вывешивайте флаг, и я завтра буду на месте и сегодня все заготовлю. Сообщайте…» 14 декабря 1906 года суд приговорил пособника неудавшегося побега из Екатеринбургского замка Григория Порошина к лишению всех прав и состояния, с водворением его на поселение в Сибирь на 5 лет... Попытки убежать из Екатеринбургской тюрьмы не прекращались и после судебного процесса над Порошиным и его подельниками. Среди образованной российской молодежи тогда считалось модным выражать поддержку либералам и революционерам, в почете у которых, как и вообще у многих молодых людей были нигилистическое отрицание традиций, материализм: «Арестантский хор готовится к пению в предстоящем празднике в тюремной церкви и разучивает довольно плохую музыку. Теперь он поет как раз напротив нашей «одиночки», в зале. Несмотря на толстые двери камеры, хор слышится очень хорошо. Мешает читать и писать…» (Н. Чердынцев, «Екатеринбургская тюрьма»). У «читавших и писавших» арестантов не переводились добровольные помощники на воле, готовые на самопожертвование ради того, чтобы вызволить своих кумиров из тюрьмы. Сколько их безвестно сгинуло в уже разгоравшейся адской топке смутного лихолетья – прекраснодушных студентов, провинциальных чудаков, восторженных девиц из благородных семей, наивных гимназистов, начитавшихся романов Чернышевского и Герцена, витавших в иллюзорных облаках «снов Веры Павловны»… Ровно через год после несостоявшегося взрыва тюремной стены у Ивановского кладбища была предотвращена еще одна попытка побега из Екатеринбургского замка, сценарий которой, как выяснилось, был примерно схожим. Несколько пожелавших поскорее расстаться с тюремными стенами социалистов, также как их предшественники, намеревались «проломить бомбой» одну из них. Порошки для изготовления требовавшейся для этого «адской машинки» приносила им в передачах дочь действительного статского советника Мария Кетова. 19 июля 1907 года подражавшую «народовольцам» экзальтированную барышню взяли с поличным и, по распоряжению полицмейстера Хлебодарова, упекли туда же, где отбывали наказание ее романтические знакомые – в казематы Екатеринбургского тюремного замка. А последняя документально подтверждаемая попытка скрыться из «Екатеринбургского централа» дореволюционного периода была выявлена в марте 1908 года. Побег готовил уже упоминавшийся в нашем очерке эсер – террорист Вячеслав Кругляшов. Он был приговорен к повешению, но, судя по одной из своих записок к партийным товарищам, считал, что ему «с веревкой знакомиться еще рано…» В своих многочисленных зашифрованных посланиях на свободу Кругляшов требовал: «… Пожалуйста, передайте через сестру…синильной кислоты, 1/4 фунта, азотной кислоты, 1/8 фунта, и браунинг». Но надзиратели и жандармы, в руки к которым угодили несколько таких «заказов», естественно, выполнять их не поторопились». Между тем, даже при усиливавшемся накале политического противостояния и обострявшейся криминогенной обстановке в стране и в регионе, условия пребывания в Екатеринбургской тюрьме, по-прежнему, оставались достаточно гуманными. Например, в том же 1907 году, когда в «Екатеринбургском централе» казнили террориста Ивана Бобошина, отбывавший здесь заключение 22-летний революционер Яков Свердлов, избранный сначала старостой камеры №7, а потом и всего мужского корпуса, организовал… «культурно – спортивную команду». Осужденные устраивали коллективные чаепития, спортивные состязания и «читательские занятия», на которых рецензировались различные книги. Доставка художественной литературы в тюрьму была налажена бесперебойно. Кстати, в соответствии с циркуляром от 15 января 1913 года, в 1913 году библиотека Екатеринбургского замка пополнилась издававшейся в то время исторической и военно-патриотической литературой, посвященной 300-летию царствования Дома Романовых. А осенью 1914 года в тюремную читальню поступило множество книг и брошюр о вреде пьянства. Видимо, неожиданно присланные «антиалкогольные» печатные «новинки» были напрямую связаны с событиями начала первой мировой войны, когда государство, стремясь укрепить дисциплину в тылу и на фронтах, принялось вводить столь, мягко говоря, непопулярную в народе меру, как «сухой закон», официально отмененный в России лишь десятилетие спустя… Привыкнув к условиям, характерным скорее для «дома отдыха», чем для учреждения системы исполнения наказаний, арестанты, тем не менее, настаивали на отмене последних элементов режимных ограничений. Так, 20 февраля 1908 года заключенный С. Е. Чуцкаев (впоследствии ставший членом президиума ЦИК СССР и полпредом СССР в Монгольской народной республике) выдвинул требование убрать разделительные решетки из комнаты для свиданий. 25 февраля того же года арестант Я. М. Свердлов написал заявление в прокуратуру, в котором потребовал, чтобы ему разрешили свидание с находящейся здесь же, в тюрьме, заключенной Новгородцевой. Естественно, оба прошения были отклонены. Как значилось в разъяснениях Чуцкаеву, разделительные решетки поставили в соответствии с законом, так как без них в комнате для свиданий заключенным постоянно передавались «недозволенные предметы, предназначенные для преступной деятельности…» А Свердлову было объявлено, что «закон запрещает свидания заключенных между собой». «Выводы» из революционных потрясений были сделаны лишь спустя несколько лет, когда обстановка в стенах Екатеринбургского замка, как и в обществе в целом, нормализовалась, и у власть предержащих появилась возможность обдумать и предпринять какие-то конструктивные меры. В результате, в 1911 году на территории «Екатеринбургского централа» был воздвигнут еще один каменный корпус – двухэтажное кирпичное здание с железобетонными перекрытиями. Таким образом, тюрьма обзавелась весьма солидным пополнением – 32 общими, 6 маломестными и 12 одноместными камерами для уголовных и политических заключенных, а также 5 камерами для осужденных, составлявших хозяйственную обслугу. Кроме того, в новом корпусе имелись еще и 7 дополнительных административных помещений – кабинетов и складов. После столь существенного прибавления «пропускные» возможности екатеринбургского тюремного комплекса заметно возросли. Правоохранительные новшества эти были необходимыми, но, как стало ясно уже через несколько лет, к сожалению, недостаточными. © 2008, Екатеринбургская Инициатива |
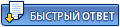   |
| Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 21:09 |
Русская версия Invision Power Board
v2.1.7 © 2026 IPS, Inc.
Лицензия зарегистрирована на: www.1723.ru








